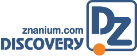Заметим, что будущее дает возможность реализовать желаемое, но и есть перспектива смерти. Такая перспектива порождает страх: «Когда есть возможность чего-то, тогда возникает страх […]. Страх выдумывает сотню всяких способов уклониться от размышлений о смерти» [1, с. 205, 242]. Поэтому мы согласны с французским исследователем Ф. Арьесом, который писал, что когда общество начинает испытывать страх смерти всерьез, оно перестает об этом говорить [2, с. 339]. Психоаналитики (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, неофрейдисты) считают, что страх смерти – априорный антропологический экзистенциал. Юнг, например, в своем эссе «О психологии бессознательного» возразил против теории Фрейда, который утверждал, что целью Эроса является создание большого числа связей и сохранение их, а целью Танатоса – их разрыв. Согласно теории Юнга, логической противоположностью любви является ненависть, а Эроса – Фобос (страх), а не Танатос. Экзистенциальная философия, в свою очередь, рассматривая диалектику жизни и смерти, наделяет человека экзистенциальным страхом перед смертью и тем самым приписывает человеку изначальный страх смерти, который рассматривается как необходимый элемент существования. Позволим себе не согласиться с этими утверждениями, т. к. мы считаем, что врождённый страх смерти у человека отсутствует, как, впрочем, и представление о смерти. Страх смерти неразрывно связан с осознанием смерти, которое активизируется в большинстве случаев тогда, когда человек начинает мысленно идентифицировать себя с умершим [3]. Страх смерти, на наш взгляд, интегрируется вокруг символа смерти, поэтому основа страха – символическая. В результате получается, что танатофобия социально детерминирована. Социальный характер страха подчеркивает конфликтность между реальностью проекции человеческого существования (смертью) и табуированностью смерти в современном обществе. Страх смерти в значительной степени зависит от социальной функции смерти. Там, где смерть используется как наказание в системе управления поведением людей, она приобретает совершенно другой облик, чем в обществах, где смерть в таком качестве не используется. Коммунистическая стратегия, например, обнаруживает в основе своей противоречивую тенденцию по отношению к страху смерти. С одной стороны, витальность и нацеленность на бессмертное будущее способствуют абсолютной недопустимости страха смерти, табуирование которого является неписанным законом коммунистической идеологии. С другой стороны, в период сталинизма смерть как кара за несуществующие преступления была средством устрашения. За этой «идеологией смерти» скрывалась, по сути, вполне определенная мотивация власти – утверждение символа смерти как судьбы и вины. Видение смерти сквозь призму мучительной вины, страха и раскаяния преобразовалось в инструмент власти («священное убийство»), с помощью которого поддерживалось существование «репрессивной культуры» [4, 5]. Индуцированный страх смерти возникает вследствие того, что наблюдаемое поведение, ведущее к смерти, практически всегда сопровождается переживаниями страха тех, кто его воспринимает. Ребенок, который видит, как при слове «смерть» или других проявлений смерти его близкие испытывают страдания и ужас, сам начинает испытывать страх. Кроме того, поведение человека в процессе умирания и смерти, которые воспринимаются наблюдателем, вызывают в последнем переживания, страдания и символизируются идеей смерти. Символы смерти автоматически вызывают ожидания, связанные с самыми различными отрицательными эмоциями – боль, одиночество, обида, фрустрация, дезинтеграция, разрыв, неподвижность, страх и т. д. Смерть оказывается таким состоянием, в котором человек не может удовлетворить свои витальные потребности, поэтому она способствует появлению страха. Если к этому добавить религиозную индоктринацию посмертного воздаяния за грехи при жизни, то любые знаки смерти начинают выступать в качестве пусковых стимулов для появления нежелательных эмоций. Для современного человека, озабоченного проблемой телесности (в ущерб классическому «cogito»), состояние после смерти является стыдным, поскольку тело может быть обнажено и может быть предметом восприятия других; беспомощность мертвого тела может вызывать чувство неполноценности или обиды, что с ним могут обращаться неподобающим образом. Этим и объясняется потребность в детальной, в том числе и эстетической, разработке ритуалов ухода за мертвым телом и похорон. Но, как ни странно, названная выше тенденция не способствует исключительной чувствительности человека к нарушениям и перверсиям похоронных ритуалов. Процесс символизации смерти осуществляется не только усилиями государства, но и средствами массовой информации, кинематографом, художественной литературой и изобразительным искусством. Сегодня можно наблюдать избыточную визуализацию и эксплуатацию темы смерти (танатальная тематика в киноиндустрии, актуализация «готического романа» в литературе, выставки художников-некрофилов). В средствах массовой информации смерть тиражируется и стереотипизируется, предстает как поток ассоциаций – убийство, несчастный случай, катастрофа и т. д. Заслуживает внимания только смерть случайная, насильственная, поэтому главный акцент в хрониках происшествия делается на «эффектные» детали. Тем самым распространяются представления о смерти как абсурдном событии, что приводит к усилению страха смерти. В художественных произведениях смерть достаточно часто становится предметом художественного описания. Описание явлений смерти создает нередко огромный эффект или, наоборот, аффект. В. Набоков, например, в своем произведении «Приглашение на казнь» [6] способствовал, на наш взгляд, не конструктивному восприятию события смерти, а, напротив, усилению страха смерти, поскольку в процессе восприятия произведения читатель в большинстве случаев идентифицирует себя с героем и переживает вместе с ним. Фокусирование внимания на смерти и посмертных превращениях стало основным мотивом в творчестве современных художников-некрофилов, которые визуализируют не только мертвое тело, но и телесную некродинамику. Современная массовая культура гипертрофирует зрелищную сторону чужой смерти. Человек погружается в стихию активной визуализации смерти, узурпирующей сознание через сводки криминальной хроники, репортажи из «горячих точек», бесчисленное количество фильмов-ужасов. Смерть из таинства превращается в «зрелище», фикцию. Но такая чрезмерность порождает неразборчивость, атрофирует гуманистические идеалы, ценности. Смерть перестает замечаться: она не останавливает мысль, сознание ее не удерживает, т. к. она стала частью общего (массового) потока жизни. Таким способом современный человек, на наш взгляд, создает иллюзию бессмертия, видимость жизни без смерти. Вследствие этого можно утверждать, что символизация смерти, как процесс создания и пересоздания образов и символов смерти, порождает страх смерти. Смерть связывается с тотальной фрустрацией всех витальных и социальных потребностей человека, и ей приписываются всевозможные страдания и лишения. Она также сопрягается с действием всех отрицательных эмоций, для которых пусковыми механизмами становятся образы, слова, знаки, ритуалы смерти. Способность человека к идентификации с другим, способность к проекции своих переживаний порождают индуцированное переживание страха перед событием смерти. А массовидное вторжение смерти в повседневность не только способствует нагнетанию страха смерти, но и девальвирует ее гуманистический статус и личную значимость. Витальное чувство страха смерти у каждого проявляется в рамках индивидуального самоощущения и мировосприятия. По этой причине степень интенсивности танатофобии не одинакова в различные возрастные периоды. Дети, например, до 4–6 лет окончательно смерть не осознают. Именно вследствие этого у них практически отсутствует страх смерти. Они первоначально принимают свое бессмертие как аксиому. Взрослея, человек до конца не избавляется от иллюзии бессмертия, поскольку при нормальном ходе жизни представление о собственной смерти существует лишь в зыбкой форме отдаленного образа. Даже в случае реальной угрозы смерти практически редко кто способен конкретно представить свое исчезновение из этого мира, т. е. внутри себя никто не верит в абсолютную смерть своего Я. Исключение составляют лишь такие ситуации, когда смерть желанна: безнадежно больные и умирающие в муках, демонстрируя полный отказ от воли к жизни, не испытывают страха смерти (по крайней мере всепоглощающего). Отсутствие страха смерти, как утверждал в свое время Сенека, дает возможность «с благом нравственного достоинства сказать прощай и встретить смерть». Однако, «однажды возникнув, страх способен к иррадиации, к постоянному расширению в бескрайних пределах экзистенциальной реальности. В конечном счете страх опрокидывает человека и посылает ему отчаяние. Захватывая все человеческое существо, страх создает путь, по которому осуществляется ничтожащее действие Ничто. Иначе говоря, страх является сильнейшим катализатором деструктивного воздействия Ничто. Страх блокирует наши жизненные силы, погружает в оцепенелый покой, лишает нас способности к речи. Одним словом, страх нас парализует, и мы не можем противостоять смертельному воздействию Ничто. Благодаря страху мы легко заболеваем и умираем» [7, с. 176]. Именно поэтому человеческая психика постоянно вырабатывает защитные механизмы, которые призваны смягчить чувство страха смерти (как писал Н. Бердяев, «страх смерти страшнее смерти»). В связи с этим можно выделить следующие: надежда на бытие-после-смерти (наиболее распространенная тенденция и представляющая самые разнообразные варианты – от идеи реинкарнации и метемпсихоза до бессмертия души (и тела)); апатия («Когда мы есть, то смерти нет, когда смерть приходит, то нас уже нет»); цинизм («Смерть, где твое жало?»); смирение («Смерть! Ты всех уравниваешь»); инфантилизм («Семи смертям не бывать, а одной не миновать») и др. В. Соловьев, например, альтернативой страху смерти считал катарсис, который ждет каждое Я на пути сочувственного внимания к ближнему. По Н. Бердяеву же, страх смерти побеждается силой веры. Культура также предлагает различные способы преодоления страха смерти, но в разных культурах это осуществляется по-разному. Развитая витальность и субъективность, а также социальная «текучесть» современной культуры обусловливают наиболее болезненное переживание смерти, в то время как в гомогенных восточных обществах событие индивидуальной смерти не столь катастрофично в силу превалирования общинного сознания над индивидуальным. Это, однако, не означает безразличия или легкости в отношении к смерти ближнего. Интенсивность переживания в условиях гомогенной общины, напротив, как правило, высока, поскольку процесс умирания, смерть и проводы всегда предполагают коллективное участие и коллективную поддержку. Именно массовидное переживание этих событий в итоге «снимает» личностный трагизм смерти. Помимо определенных принципов социальной организации, в восточных культурах есть религиозные и философские системы, помогающие принять смерть как должное. В данных культурах (китайская, японская, индийская, египетская) смерти как абсолютного разрыва с жизнью нет, т. к. жизнь и смерть рассматриваются как два равносильных модуса бытия. Именно поэтому вполне закономерно появление таких литературных памятников, как «Египетская книга мертвых» и «Тибетская книга мертвых». В индийской культуре приемлемость смерти перерастает в ее предпочтение по отношению к жизни, полной лишений и страданий. Освобождение от последних есть безусловное благо и абсолютная цель. Смерть в буддистской традиции интерпретируется в качестве иллюзии человека. Отсюда – смерти нет как данности, она – освободительная цель. Христианство трактует смерть как необходимый этап на пути к истинной и вечной жизни, поэтому страх должен быть преодолен силой веры. Вера трансцендентна по отношению к смерти определённой культуры и смерти индивидуального мира человека, она открывает перспективу «существования после смерти». В настоящее время в США в качестве способа борьбы со страхом смерти (как правило, у умирающих) практикуют психоделические сеансы. В процессе такой психотерапии активизируют подсознательные структуры с помощью психотропных средств, что приводит к яркому переживанию, по своей интенсивности напоминающему переживание процесса умирания. Это дает возможность в дальнейшем избежать экзистенциального ужаса перед смертью [8, с. 22]. Мы думаем, что как опыт клинической смерти не является подлинным опытом смерти, так и подобная «терапия смерти» не может рассматриваться как подлинное переживание: это лишь иллюзия, «искусственный заместитель». В результате вышесказанного мы приходим к выводу, что страх смерти оказывается тем механизмом, который вытесняет смерть в область подсознательного, поскольку человек не может постоянно находиться под гнетом осознания неизбежности своей смерти. Он вытесняет это осознание, стремится не думать о смерти, а упрочить то качество своего внутреннего опыта, благодаря которому он в нем как бы вечен. Вследствие чего жизнь современного человека предстает как практическое без-смертие.