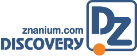Агиографический дискурс, как акт коммуникации в пространстве культуры, может стать продуктивным в современной русской прозе при условии адекватности его читательского восприятия [1, с. 172]. Современные писатели усложняют общение с реципиентом, активизируя его культурную «память», обращаясь не только к воцерковленным читателям (чувство которых при этом оказывается задето) и неофитам. Этот тип читателей только приобретает навыки рецепции агиографического дискурса, что создает некоторые проблемы восприятия подобных текстов, тем более если в их поэтике заложен игровой принцип. Проблемам русской православной церкви и путям воцерковления неофита посвящён современный патерик Майи Кучерской «Чтение для впавших в уныние». В патерике запечатлён образец народной веры и традиционной национальной культуры: «Современная церковь живёт и дышит, в ней происходит своя удивительная, разнообразная, богатая жизнь. С болезнями, катастрофами, трагедиями, но и с радостями, озарениями, любовью. И всякими весёлыми историями тоже, пересказывать которые невозможно без улыбки, а порой гротеска», - считает писательница. Русская литература, обращенная к решению духовных вопросов личности, обнаруживает тесную связь с Православной Церковью. Диалог светской литературы и церкви реализуется и в новейшей культуре. Проблемы церкви в ХХ в. предрекал Н. А. Бердяев, замечая проницаемость границ между миром и церковью. «Все более и более вырождающееся монашество отрицает не мир, - мир этот контрабандным путем проникает в монашеский быт, варенья много в монастырях и мало в них «пепельной грусти» Евангелия, - монашество отрицает творчество, проникновение в этот мир иного мира, отрицает историю освобождения от зла этого мира. Монашество погрязло в этот «мир», потеряло всякую связь с аскетической христианской миссией; официальное христианство давно уже превратилось в быт. <…> Но монашество продолжает отрицать ценности мира, ненавидит порывы творчества, враждебно к освобождению от власти этого мира, дорожит злом мира как оправданием своего существования. Монахи, епископы, князья церкви, исторические хозяева религии - все это слишком мирские, бытовые люди, поставленные царствами этого мира. Мы не верим, что эти люди не от мира сего, их отрицание мира есть лишь одна из хитростей этого «мира»… Всемирно-исторический смысл аскетической христианской мистики - в вызове всему порядку природы, в противоборстве естественной необходимости, в обожении человеческой природы слиянием с Христом, в победе над смертью. Этот аскетизм христианских святых не был недоразумением или злом, он имел положительную миссию, имел космические последствия в деле мирового спасения. Но где теперь святые?» [2, с. 15]. «Но где теперь святые?», - вопрос, над которым размышляют многие современные писатели. Подобное такому высокому пониманию предназначения святости для жизни России, как его сформулировал здесь Н. А. Бердяев, в художественной форме стремился воплотить Д. М. Балашов, который, будучи историком и последователем Л. Н. Гумилева, осознавал, говоря словами Н. А. Бердяева, «всемирно-исторический смысл аскетической христианской мистики» и «космические последствия в деле мирового спасения». Творческая задача выявить феномен святости решена в «Повести о плуте и монахе» И. Бояшова, ее «надмирный» характер продемонстрирован в пьесе Л. Улицкой «Семеро святых из деревни Брюхо». Но почти все из упомянутых нами художественных произведений - вариантов репрезентации агиографии в жанрах новейшей литературы - написаны на историческом материале, с разной степенью отдаленности от читателя-современника. «Современный патерик» М. Кучерской раскрывает явление святости в «миру», в современной церкви. Как феномен «клерикальной литературы» произведение было оценено священниками в основном отрицательно, но специфику соотнесли с «бытописательной литературой на христианские темы», а значение произведения было признано не соответствующим высокому предназначению христианской литературы. Особенности произведения и художественное единство текста произведения определяются жанровой традицией. Как известно, жития святых существуют в нескольких жанровых разновидностях. Непринципиальные с точки зрения древнерусской творческой этики различия между ними определяются типом героя и формой бытования сочинения. Произведение М. Кучерской обращено к патериковым принципам сюжетосложения и художественности, заметно трансформируя их. Несмотря на разницу между различными жанровыми разновидностями внутри житийной литературы, каноном задан ряд устойчивых признаков. Главная из этих констант - герой-праведник и способы его изображения (одним из таких способов является идеализация). Существуют и другие постоянные признаки, которые, впрочем, в меньшей мере характеризуют патериковые жития. «Чтение для впавших в уныние» М. Кучерской (одновременно как процесс рецепции книги и собственно авторский текст) реанимирует в читательском сознании жанровые формы патериковой новеллы, фацеции, притчи, анекдота, афористики (жанровая форма жизнеописания «учитель сказал...»), последовательное чередование и циклизация которых определяют специфику читательского восприятия. Поскольку в отличие от образцов жанра «Современный патерик» создается одним писателем, он более отчетливо проявляет концептуальность повествования, насыщенность концептами. При этом произведение не содержит прямых свидетельств о том, что действие всех сюжетов связано с одним конкретным монастырем и что события, описанные в нем, происходят в одну историческую эпоху, поэтому патерик дехронологизировал историю. Однако целостность повествованию придает единство временного потока, инерция сменяемых друг друга эпизодов, картин повседневности монастырского быта, в условиях которого проступают черты вечного бытия. В этом плане «Современный патерик» отражает принципы древнерусских отечников: «Хронология патерикового повествования относительна, так как не имеет единой точки отсчета. Время в патерике то стянуто и сгущено, то рождает иллюзию длительности, протяженности. Течение времени зависит от жанровой природы каждого «слагаемого» патерикового сборника и от способа подачи материала (констатирующего или изобразительного). Время в патериковых рассказах, вслед за В. Н. Топоровым, можно определить как «слабометричное» и «событийное» [3, с. 5]. Создаваемый автором мирообраз, оформленный в жанре, зависит, в свою очередь, от отображаемого хронотопа (в агиографии - монастырского), определяет устойчивый набор концептов. Поскольку агиография - наиболее репрезентативный жанр церковной культуры, в современном сочинении, раскрывающем образ церкви, проявляется именно агиографическая образность. Идейно-художественное содержание книги составляет концептосфера агиографии, увиденная и оцениваемая в фокусе невоцерковленного взгляда. Текст представляет собой структуру, выстроенную на иерархии концептов, главный из которых - церковь, системно обнажается в наиболее частных символических образах, в иных контекстах, утрачивающих, по словам Н. А. Бердяева, «смысл аскетической христианской мистики». Ядерный центр агиографической концептосферы - церковь, в орбиту которого входят главнейшие. Один из них - старец (святой персонаж). Монастырь - локус приобщения к вечности, нравственно-духовного очищения. Путем такого очищения является соблюдение определенных норм в повседневном поведении, характере, умонастроении. В патерике, может быть, больше, чем в житии отдельного святого, проступают черты монастырского, общежительного быта. В характере праведников, о которых рассказывается в патериках, при всей формульности их сюжетов, отмечаются индивидуальные черты, тогда как в линейных житиях подчеркивается типичное. В патерике не приводится полное и последовательное описание жизни монаха, в центре сюжета - наиболее яркий, эпически выразительный эпизод из жизни подвижника, высвечивающий его характер. Автор отмечает прежде всего поведенческие характеристики, проявление в поведении известных христианских заповедей, реализации метафорического смысла евангельских притч в действиях и поступках персонажей, обнажающих специфическую «цитатность» их поведения. Соблюдение норм поведения, ограниченных Евангелием, приближает человека к идеалу, как персонаж агиографического прославления он реализует «интертекст поведения». Старцы строили свою жизнь, подражая героям Евангелия. Однако наложение бытовых и бытийных контекстов в некоторых фрагментах М. Кучерской порождает анекдот. В комическом свете предстают старцы. Именно в таком значении считывается смысл таких эпизодов: «Трапезовали. Вдруг отец Феопрепий полез под стол. И залез, и сидел там среди грубо обутых ног братии. Ноги не шевелились. Тогда Феопрепий начал лазать и дергать снизу за рясы. По смирению своему никто не упрекнул его. Только один новоначальный инок вопросил с изумлением: «Отче! Как прикажешь понимать тебя?» - Хочу быть как дитя, - был ответ» [4, с. 6]. Появляется невозможная в житии ирония по отношению к герою, замещающая идеализацию, иронический модус художественности выявляет присутствие в монастырском локусе постороннего этой среде и ее нормам. В «Современном патерике» содержатся истории, которые раскрывают принципы ортодоксального мышления праведников, точнее - отклонения от них, когда идеациональное подменяется конкретно-чувственным. Известно, что идеальным для праведников является ангельское поведение, которому они стремятся соответствовать, а само видение ангелов настраивает монаха на созерцание иных сфер бытия. Но быт, которым живут они в повседневности, отучает их от постижения редкого чуда: «Одному иноку явился Ангел. - Ангел? - поразился инок. - Ангел, - отвечал Ангел. - А вдруг ты не по правде и притворяешься? - встрепетал брат и перекрестился. - Вдруг ты просто белая птица? - Что ты! Я по правде. Хочешь, на, потрогай, - И Ангел протянул ему сияющее крылышко. Инок же, желая коснуться его, вместо перьев щупал пальцами только воздух - крылышко было самое настоящее, ангельское!» [4, с. 16-17]. Эта история раскрывает непосредственность восприятия монаху, как и простому человеку, свойственно сомнение при виде чего-то необычного. В патериках монах опрощается, автор приближает его к читателю. Идея самовоспитания пронизывает все произведение о трудностях праведной жизни. Единство идеи - жанровая характеристика патерика как устойчивого типа агиографического сборника ансамблевого характера, включающего произведения о святых определенной местности. Патерик запечатлевает историю христианской святости. Идея самовоспитания в истории приобщения к святости становится осевой для расположения в отдельных эпизодах различных концептов, семантика которых связана с бытийным, передаёт мерцание «диалогизующего фона» (Н. В. Капустин), создающего дополнительные оттенки значений, интегральных для ряда концептов жанра. Таким образом порождается специфическая для патерика текстовая структура, для которой, как и для любой другой, определяющим является целостность значения инвариантных образов и повторяющихся мотивов в отношении друг с другом. Идеальное тонко завуалировано погруженностью в бытовые реалии обычной жизни: обыкновенное утверждается автором «Современного патерика» в качестве идеальной нормы. В произведении нет точного «цитирования» расхожих элементов патериковых житий, это заменено на стилизацию, вызывающую в сознании читателя только самые общие приметы агиографического жанра. Идея воцерковления отражается также в историях прихожан. Как жанр объединяющего характера, патерик способен вместить в свой жанровый состав (при всем доминировании собственно агиографических текстов) истории прихожан, соотносящиеся с тематической общностью основного текстового материала и единой целевой направленностью - прославление «храбров духа» и пропаганда христианского идеала поведения человека [3, с. 9]. Однако композиционно эти тексты у М. Кучерской не образуют связи на уровне формальной целостности композиции, произведения группируются по воле автора, обнаруживающего ассоциативные связи. Видимым проявлением внутреннего переживания, молитвенного состояния и, благодаря чему, - очищения, которое должно захватить служащего в монастыре, является слеза. Слеза - один из символических образов русской агиографии. В значении этого образа художественный символизм объективирует нравственную чистоту, духовную возвышенность, благочестие. Главные герои житийной литературы «проливают потоки слез не потому, что не боятся своих врагов. Слезы по древней христианской традиции - дар Божий, очищающий душу человека, смывающий все его грехи, возводящий его к высотам духа. Потому христианский герой, начиная с раннехристианских мучеников, не стыдится слез, но, напротив, гордятся ими как знаками дарованного ему очищения» [5, с. 220]. И именно поэтому в контексте древнерусского эстетического сознания слезливость - выражение его стремления с предельной полнотой сконцентрировать все свои духовные силы, очиститься от всего внешнего, второстепенного. С помощью слез и молитв древнерусский герой укрепляется духовно, а такая крепость, по представлению средневекового человека, была значительно выше и прочнее крепости физической. «Сказывали об отце Иеремии, что при нем состоял специальный келейник, который каждый час менял авве носовые платки, - так много тот плакал» [4, с. 17]. «Один послушник был очень чувствителен и часто проливал во время служб обильные слезы. Братия прозвала его «Плаксой»» [4, с. 17]. «Отец Стефан дернул брата за бороду. - Ой-ой-ой! - закричал брат. - Ты же молчальник, - изумлялся Стефан. - Ну и что же, - сказал брат. И горько заплакал» [4, с. 6]. Автор патерика приближает героя к народному идеалу святости. Среди его героев много иноков, подверженных страстям и соблазнам мира, что вносит в повествование элементы юмора, занимательности. Монотонно-однообразный ритм жизни в монастыре высвечивается в новом свете. «Изображение теневых сторон монашеского общежития происходило не столько по осмотрительности агиографа, сколько от замысла воспитать читателя и на идеальных примерах, и от «противного»» [3, c. 10] «Брат пришел к авве Аверкию и сказал ему: - Я такой ленивый, что тяжело мне даже подняться, чтобы идти на послушание. Каждый день для меня каторга, и чувствую, что скоро я совсем надорвусь от труда и самопринуждения. - Если так тяжело ходить тебе на работу, - отвечал авва, - не ходи. Оставайся в келье и горько оплакивай свою леность. Да рыдай погромче! Увидев, как горько ты плачешь, никто не тронет тебя» [4, с. 13-14]. Речевой портрет монаха как лингвокультурного типажа в «Современном патерике» редуцирован до формы реплики, фразы, отдельного слова. Монашеская речь в новейших художественных сочинениях не поддается адекватному воспроизведению. В этом, очевидно, заключается специфика православного конфессиолекта, о чем писал в свое время русский философ К. Н. Леонтьев в связи с размышлениями о романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», в котором «весьма значительную роль играют православные монахи», произносящие, по замыслу писателя, наоборот, достаточно пространные речи. К. Н. Леонтьев критически заметил, что у Ф. М. Достоевского, «…монахи говорят не совсем то или, точнее выражаясь, совсем не то, что в действительности говорят очень хорошие монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские. Правда, и тут как-то мало говориться о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна… <…> Не так бы, положим, обо всем этом нужно было писать, оставаясь, заметим, даже вполне на почве действительности. Положим, было бы гораздо лучше сочетать более сильное мистическое чувство с большей точностью реального изображения: это было бы правдивее и полезнее, тогда как у г. Достоевского и в этом романе собственно мистические чувства все-таки выражены слабо, а чувства гуманитарной идеализации даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно» [6, c. 218]. Опыт Ф. М. Достоевского стал поучительным для дальнейшего развития русской литературы и эволюции агиографического дискурса, обнаруживая при этом определенные трудности в художественной репрезентации «житийного слова» (М. М. Бахтин) и языкового образа инока. М. Кучерской удалось заметить много необычного для постороннего взгляда в устройстве монастырского быта. При художественном постижении монастырского мира мистический план замещается реалистическим планом репрезентации, «идеациональное» оборачивается «чувственным» [7, с. 64]. Воспитание души - главная цель пребывания в границах монастыря - оборачивается для старцев «Современного патерика» жаждой насыщения плоти. Еда в житийном сочинении традиционно имеет символическое значение, оценивается праведным персонажем в бытийном, идециональном плане. «Ест он мало и не долит, нет того сосущего ощущения голода», - рассказывает Д. М. Балашов о Сергии Радонежском [8, с. 280], который, как известно, ещё в детстве был постником, и рассуждает о нестяжательстве, умеренности и бытовой скромности святого, ссылаясь на другие жития: «В одном византийском житии юноше, поступившему в монастырь, старец, воспитывая его, велел съесть на первый раз хлеба столько, сколько хочет, чтобы почувствовал сытость, а затем, ежедневно, уменьшать долю, но опять же дабы не почувствовать голода. В конце концов юноше стало хватать для насыщения четверти того, что он ел в первые дни. <…> Сергий и навсегда установил для себя нерушимый порядок, при коем важнейшим была молитва Господу, а плотские заботы, в частности о пище телесной, стояли на последнем месте. Посему никакое «лишение материальных благ» его изначально не трогало» [8, с. 281]. В повествовании о житии Сергия писатель несколько раз обращает внимание читателя на правило воздержания, хотя и при этом подчеркивает не чуждость святому всего земного: «А кто кормил византийских столпников, по обету не слезавших со столпа? Кто-то же кормил, не птицы небесные им пищу носили! И как ни мало ел такой аскет, а без еды не прожил бы и он. Можно есть и акриды (говорят, довольно сытная волога!), заедая диким мёдом, но ничего не есть нельзя. Что-то и Мария Египетская вкушала за сорок семь лет, помимо одной просфоры, унесенной с собой в пустыню. Об этом не пишут, ибо в духовном подвиге это самое неглавное, но - увы! - телесны суть и тварны мы, смертные. И поэтому и пишу о том - да не обвинят меня в приземлении святого!» [8, с. 235]. Как естественная потребность человека, еда привлекает персонажей «Современного патерика»: «Некоторый брат перестал вкушать пищу: - Почему ты ничего не ешь? - спросили его соседи по колье. - А я постник, - объяснил брат. - Да, но так ты скоро умрешь с голоду. - Да? - отвечал инок. - Умру с голоду? И, подивясь рассудительности их, стал есть, получив назидание» [4, с. 9]. Здесь автор посмеивается над монахом, который думал, что суть постничества состоит лишь в отказе от пищи. В других эпизодах в этом образе проявляется какая-то знаковость, мудрость в отношении к еде как к способу порадоваться жизни, испытать удовлетворение: «Один брат пришел к старцу посетовать на свою тяжёлую жизнь. Когда же старец стал давать ему мудрые советы, как ему быть, брат отвечал на всё: «Нет, этого я не смогу и с этим не справлюсь, и того не сумею». - Эй, Лёха, - позвал тогда старец своего келейника, - приготовь-ка этому манной кашки. Очень он слаб» [4, с. 11]. Произведение М. Кучерской построено таким образом, что в композиции происходит намеренное обыгрывание значения концепта, сформировавшегося в определенном контексте, и его развенчание в последующем. Так, следующий за выше процитированной сценой эпизод притчевость повествования оборачивает в анекдотическую ситуацию, усугубляющуюся ещё и далее. «Отец Доримедонт объелся шоколадом. <…> - Глядите, он держится за живот, - заметил один из иноков. - Наверное, заболел от подвижничества. Принесу-ка из холодильника шоколадку, чтобы сделать ему утешение! - Только не это, - простонал отец Доримедонт с ужасом. - Дайте мне лучше глоток подсолённой воды. Услышав это, братия подвинулась образу его жизни и увеличила пост» [4, с. 11-12]. «Инок Амвросий, исполнявший послушание в трапезной, после окончания братской трапезы сел за стол и, достав из тайника глазированные сырки, начал поглощать их один за одним. В тот момент другой инок вошел в трапезную и увидел вкушавшего сырки брата. - Прости, отче, что напоминаю тебе! - заметил вошедший инок. - Но нынче день строго поста, ибо сегодня рождественский сочельник. Отец Амвросий в изумлении поднял глаза на говорившего, и его тут же вырвало» [4, с. 12]. В сюжете многих агиографических сочинений показывается, что мир жесток к житийному герою. В провоцирующих ситуациях, в которые ставит писательница не столько самих монахов, исполняющих в силу собственных возможностей свой обет, но и прежде всего читателя, посмеивающегося над ними, демонстрируется точка зрения чуждого монастырскому миру человека. Такой эффект порождает художественная специфика «Современного патерика». Карнавализация художественного мира жития отразилась не только в «Современном патерике» М. Кучерской. Этот процесс уже имел место в древнерусской литературе. В жанре антиклерикальных виршей (входивших в группу эпиграмматических жанров) сатирически описывалось не соответствующее литературному этикету поведение церковников, что, видимо, наблюдалось и в жизни. Евфимий Чудовский афористически формулировал свои наблюдения. *** Часто переносимое древо не рождает. *** Монах, часто бегаяй [меняющий монастыри], бесплоден бывает. В другом тексте он предупреждал монахов и обращался к братии с вопросом, перефразируя изречение апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, то не ешь», призывающее к аскетическому образу жизни и трудолюбию (2 Фес. 3:10). Понапрасну возжелал сделаться монахом тот, кого отныне труд наполняет страхом, <…> Нет, не инок будет тот, кто горазд лениться, в праздности чужим трудом хочет прокормиться. Если тунеядцу нет хлеба, Павел учит, то ужель духовную пищу он получит? [9, с. 58-61] Приведенные примеры принципиально отличаются от патериковых эпизодов «Чтения для впавших в уныние» тем, что выполняют прежде всего сатирическую и воспитательную функции. Этого значения лишен «Современный патерик» М. Кучерской, в котором сатирическое осмеяние замещается юмористическим модусом художественности. Иноментальной структурой, оценивающей традицию, становится сознание невоцерковленного читателя, которому не хватает мудрости и необходимого жизненного опыта для корректного восприятия агиографического дискурса. Для «Современного патерика» иноментальным контекстом функционирования житийной традиции становится «мир», современное социокультурное пространство, мирское сознание читателя. Конфликт мира и Церкви, о котором писал Н. А. Бердяев, разрушает агиографическую традицию, не дает возможности её функционирования. «Клерикальная проза» призвана воспитать новый тип читателя.