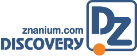Существуют многочисленные определения творчества. Так, например, с точки зрения А. Я. Пономарёва, творчество есть «необходимое условие для развития материи, образования ее новых форм, вместе с возникновением которых меняются и сами формы творчества. Творчество человека – лишь одна из таких форм»[1, с. 43]. Д. Б. Богоявленская рассматривает творчество как одну из форм трудовой деятельности [2, с. 144–146], т. е. творчество в той или иной степени отождествляется с трудом. В «Философском энциклопедическом словаре» дано следующее определение: «Творчество – это деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого человека как творца [3, с. 849]. Существует понимание творчества как мировоззрения, как «нестандартного отношения человека к действительности» [4, с. 20], причем в таком аспекте творчество чаще всего рассматривается как познавательное творчество. В западной традиции изучения творчества превалируют психологические подходы и направления, поэтому творчество в большинстве случаев связывается с «производством» идей, являющихся новыми и значимыми для самого субъекта. Современные исследователи [5, с. 123] предлагают условное разделение многочисленных определений творчества (креативности) западных исследователей: – на гештальтистские (описывающие креативный процесс как разрушение существующего гештальта для построения лучшего); – инновационные (ориентированные на оценку креативности по новизне конечного продукта); – эстетические или экспрессивные (делающие упор на самовыражении творца); – проблемные (определяющие креативность через ряд процессов решения задач); – психоаналитические или динамические (описывающие креативность как взаимоотношение двух инстинктов – Эроса и Танатоса). Ныне существующие точки зрения на проблему соотношения креативности и деструктивности в подавляющем своем большинстве имеют основой положения, получившие развитие в конце XIX – начале XX в. в психоанализе. Очевидно, выделение деструктивности как одной из основополагающих сторон природы человека способствовало тому, что она, пройдя философское обоснование, превратившись в мировоззрение и утвердившись в обыденной психологии людей, выражается сейчас в стиле жизни, результатом чего стал кризис человечности, поразивший современную цивилизацию. Этот кризис выражается в росте насилия, распространении терроризма, наркомании, деградации культуры и ставит под вопрос самое существование человека. Именно этот факт, по нашему мнению, заставляет в очередной раз обратиться к фрейдизму для анализа истоков возникновения самого понятия «влечение к смерти», поскольку де структивность рассматривается как производная влечения к смерти. З. Фрейд раскрыл два вида основных влечений. Его ранняя модель описывала две противоположные силы: сексуальную (в более широком смысле – эротическую или доставляющую физическое удовольствие) и агрессивную, или деструктивную. Позднее он описал эти силы более детально: одну в качестве силы, поддерживающей жизнь, другую – в качестве силы, потворствующей смерти (и разрушению). «Обе формулировки подразумевают биологическую, поведенческую и неразрешенную пару противоречий, поскольку большинство наших мыслей и поступков вызваны действием этих инстинктивных сил, но не каждой в отдельности, а в их единой комбинации» [6, с. 23]. Именно таким образом Фрейд пытался объяснить ряд повторяющихся явлений, таких как навязчивое повторение, которое он не мог объяснить поиском удовлетворения, т. к. оно причиняло мучения пациентам. Он видел в этих завораживающих явлениях некую «демоническую силу», которая способна противостоять принципу удовольствия. Влечение к смерти упоминается в шестой главе работы Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», «хотя Фрейд не дал его четкого описания» [6, с. 24]. «Мы, – пишет Фрейд, – скорее исходили из резкого разделения между влечениями «я» – влечениями к смерти и сексуальными влечениями – влечениями к жизни. Мы были даже готовы считать так называемые влечения «я» к самосохранению влечениями к смерти, от чего мы сейчас вынуждены воздержаться. Наше представление было с самого начала дуалистическим, и теперь оно стало им еще резче, чем раньше, с тех пор как мы усматриваем противоположность не между влечениями «я» и сексуальными, а между влечениями к жизни и влечениями к смерти» [7, с. 244]. Фрейд считает это влечение присущим каждому живому существу побуждением вернуться в неорганическое состояние, т. к. живые существа возникли позже неживых и именно поэтому они обречены умереть по внутренним причинам. Это и есть, по его словам, влечение к разрушению, влечение к овладению, воля к власти. Это влечение отчасти подчиняется сексуальной функции, и либидо предназначено обезоружить это влечение и направить его вовне [7, с. 235–253]. Таким образом, инстинкт смерти направлен против самого живого организма и потому является инстинктом либо саморазрушения, либо разрушения другого индивида (в случае направленности вовне). Если же инстинкт смерти связан с сексуальностью, то он находит выражение в формах садизма или мазохизма. Между тем Фрейд неоднократно подчеркивал, что интенсивность этого инстинкта можно редуцировать, однако, можно утверждать, что его основная теоретическая посылка гласит: человек одержим одной лишь страстью – жаждой разрушить либо себя, либо других людей, и этой трагической альтернативы человек вряд ли сможет избежать. Согласно Э. Фромму, сам Фрейд никогда не претендовал на научную доказательность теории либидо. «Он, – пишет Фромм, – обозначил ее словами «наша мифология» и позднее заменил теорией Эроса и «влечением к смерти». Большое значение имеет также тот факт, что основополагающими категориями психоанализа Фрейд считал вытеснение и сублимацию» [8, с. 114]. Итак, из гипотезы о влечении смерти следует вывод, что оно по сути своей является не реакцией на раздражение, а представляет собой некий постоянно присутствующий в организме человека подвижный импульс, обусловленный самой конституцией человеческого существа, самой природой человека. В целом для теоретической схемы Фрейда в ее «философском измерении» характерно то, что не Эрос, либидо, воля, человеческое желание сами по себе выступают предметом творчества мыслителя, а совокупность желаний в состоянии перманентного конфликта с миром культурных установлений, социальными императивами и запретами, олицетворенными в родителях, разнообразных авторитетах, общественных идолах и т. д. «Вся концепция Фрейда послужила основанием для его вывода: человек – это не «больное животное», как утверждал Ницше, удел человека – в неизбежных конфликтах» [9, с. 1115]. Большинство психоаналитиков, взявших на вооружение теорию З. Фрейда, воздержались от восприятия той части его учения, в которой речь идет об инстинкте смерти. Тем не менее многие ученые, даже те, которые ставили под сомнение существование подобного влечения к смерти, не отбросили полностью новые идеи Фрейда, а пошли на компромисс, признав, что «влечение к смерти» существует как противоположность сексуальности. Это дало им возможность применить новый подход Фрейда к понятию агрессии, в том числе и к процессам, происходящим в обществе. Пример такого подхода мы находим у одного из представителей ортодоксального психоанализа – Р. Вэльдера. Он пишет: «Известны две полярные позиции, критикующие друг друга: праведные марксисты и западные либералы. Но в одном их мнения совпадают: и те и другие страстно убеждены, что человек от природы «добр» и что все зло и беды в человеческих отношениях происходят по причине дурных обстоятельств. Однако не эволюционисты, ни революционеры, убежденные в природной доброте человека, не могут отрицать, что теория деструктивности (влечения к смерти) приводит их в смятение. Ибо если эта теория верна, то возможность страданий и конфликтов исконно заложена в человеческое бытие и уничтожить или облегчить страдания оказывается гораздо сложнее» [8, с. 112]. Точка зрения таких авторов, как К. Лоренц, Э. Берн, упоминающих в своих работах агрессивные влечения, влечения к смерти, фактически сходна с точкой зрения некоторых представителей ортодоксального психоанализа в признании агрессивной природы человека. В психиатрии, например, Э. Берн называет влечение к смерти, трактуемое им как «стремление к уничтожению, которое вызывает в человеке низменные чувства – вражду и ненависть, неконтролируемый гнев и садистские наслаждения жестокостью и распадом живой плоти», мортидо «авторский неологизм от лат. mors – смерть» [10, с. 166], одним из двух самых мощных стремлений человека, наряду с либидо. «Стремление к созиданию и стремление к разрушению – два самых мощных стремления человека» [10, с. 166], – пишет Э. Берн. Таким образом, введение З. Фрейдом понятия «влечение к смерти» или «деструктивное влечение» привело к тому, что в исследованиях многих психоаналитиков содержался, по сути дела, один и тот же тезис: деструктивное поведение людей, проявляющееся в войнах, преступлениях, извращениях, имеет филогенетические корни, т. е. оно изначально заложено в человеке, связано с врожденным инстинктом, который ждет своего места и часа и использует любую возможность для своего проявления. В противовес теории влечения к смерти Л. фон Берталанфи считает, что «в человеческой психике, без сомнения, есть некоторые деструктивные тенденции, которые похожи на биологические задатки. Однако самые угрожающие формы агрессивности далеко выходят за рамки проблемы самосохранения и разрушения. Они коренятся в собственно человеческой форме жизни, которая выше биологической и специфика которой обусловлена способностью к абстрактному мышлению, к созданию особого символического мира, речи и общения» [8, с. 255]. Поскольку человеческая деструктивность исходит из способности человека формировать символы, то главным фактором, придающим человеческой агрессивности черты зла и делающим агрессивность «бесконечной», является ее связь с сознательной и бессознательной фантазией, а сама способность человека формировать символы находится, по мнению исследователя, за пределами добра и зла. В этом точка зрения Л. фон Берталанфи сходна с мнением Э. Фромма, считающего, что «только человек бывает деструктивным независимо от угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей» [8, с. 255]. Развивая подобное положение, следует согласиться с X. Томэ и X. Кэхеле, которые находят значительное различие между агрессией и деструктивностью. По их мнению, чистая агрессия, направленная на людей или объекты, стоящие на пути удовлетворения, быстро исчезает после того, как цель достигнута. Гнев, вызванный нарциссическими фантазиями, как полагают исследователи, ненасытен. Сознательные и бессознательные фантазии в этом случае становятся независимыми от событий, провоцирующих агрессивное поведение, и действуют как ненасыщаемые силы хладнокровной деструкции [11, с. 199]. Следует иметь в виду, что со времени введения в 1898 г. психотерапевтом X. Эллисом термина «нарциссизм» само явление нарциссизма рассматривалось психоанализом как разновидность извращенного поведения, симптом психического расстройства, т. е. болезни. Отсюда следует, что X. Томэ и X. Кэхеле фактически говорят о том, что деструкция является не нормой человеческого поведения, а его патологией. Иными словами, нормальный человек не испытывает немотивированного желания разрушать. Подобный вывод, по нашему мнению, очень важен для дальнейшего анализа идеи «инстинкта смерти». В целом, принимая во внимание приведенные выше аргументы исследователей психоанализа, можно сделать вывод о том, что к гипотезе З. Фрейда относительно введения влечения к смерти следует относиться критически. В работе «Общая психопатология» К. Ясперс охарактеризовал психоаналитическую доктрину в следующих словах: «Главное для нее – создать для другого человека ситуацию, в которой он был бы вынужден подвергнуться психоанализу; но истинное общение между людьми принадлежит иному порядку вещей» [12, с. 923]. Сходную с Ясперсом позицию занимает исследователь Х. Кунц. «Следует обратить внимание, – пишет Кунц, – на убеждающую силу психоанализа, которая не имеет ничего общего с доказательностью биологического или какого-либо иного эмпирического знания. Для психоаналитика ощущение истинности анализа – это нечто бесконечно более могущественное и убедительное, чем любые логически сформулированные доказательства» [12, с. 924]. Как верно указывает A. M. Руткевич, Фрейд очень часто делает логические ошибки, а именно «ошибки поспешного обобщения», «выводы по неполной индукции» и «выводы по аналогии». Подобные выводы применительно к клиническим случаям, на которые опирается Фрейд, «имеют вероятностный характер» [13, с. 54]. Иными словами, Фрейд, по мнению А. М. Руткевича, «часто выдает вероятностные аргументы за строгие и окончательные доказательства» [13, с. 54]. Несмотря на подобную шаткость аргументации, многие психоаналитики и философы восприняли и до сих пор используют такое «открытие» Фрейда, как влечение к смерти в своих трудах, рассматривая деструктивность как одну из двух основополагающих черт природы человека. Однако Э. Фромм, раскрывая «анатомию человеческой деструктивности», четко различает доброкачественно-оборонительную и злокачественно-деструктивную агрессию. Он не согласен с К. Лоренцем, который в своей работе «Так называемое зло» понимал под агрессией не только необходимый биологический импульс, развивающийся в результате эволюции в целях выживания индивида и вида, но и жажду крови, деструктивность и жестокость [8, с. 12–13]. Фромм указывает, что из-за такого смешения понятий эти «иррациональные страсти» могут быть ошибочно приняты за врожденные. Из такой ошибочной посылки, по мнению Фромма, можно сделать совершенно неверный вывод о том, что причины войн коренятся в жажде убивать, что войны обусловлены врожденной склонностью человека к разрушению. Фромм признает, что доброкачественная агрессия, как проявление инстинкта выживания, свойственна как животному, так и человеку, однако «только человек получает удовольствие от бессмысленного и беспричинного уничтожения живых существ» [8, с. 255]. С позицией Фромма согласен В. Райх, утверждая, что агрессия не имеет ничего общего с деструктивностью. Райх также отрицает изначально биологический характер деструктивности. По Райху, один зверь убивает другого не потому, что это доставляет ему удовольствие. Это было бы садистским убийством ради наслаждения. Он убивает из-за голода или угрозы своей жизни. Следовательно, и деструкция проявляется как функция живого на службе у изначального влечения к жизни и только «высвобождение естественной способности людей к любви может справиться с глубоко укоренившейся в них садистской деструктивностью» [14, с. 304]. Фромм также справедливо замечает, что злокачественная агрессия не порождается животными инстинктами, она не нужна для физиологического выживания человека, несмотря на то, что представляет важную составную часть психики человека. Более того, Фромм полагает: одним из доказательств того, что злокачественная агрессия не коренится в природе человека, является тот факт, что она может доминировать в отдельных культурах и у отдельных индивидов, а у других вовсе отсутствует. Отсюда исходит справедливое, по нашему мнению, утверждение Фромма о том, что деструктивность возникает как реакция на психические потребности человека и является результатом взаимодействия различных социальных условий и экзистенциальных потребностей человека. Э. Фромм подробно описал портреты некрофила, биофила, нарцисса, а также социальные типы конформиста, садиста и т. д. В сочинении «Анатомия человеческой деструктивности» Фромм исследует симптоматику некрофилии, некрофильские действия, в том числе непреднамеренные, исследует биографию А. Гитлера и приходит к заключению, что это клинический случай некрофилии. Однако, утверждает Э. Фромм, полностью некрофильские характеры «встречаются сравнительно редко» [8, с. 507]. Понятие «некрофилия» обозначает любовь к мертвому, «одновременно это страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради разрушения; а также исключительный интерес ко всему механическому. Плюс к этому это страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей» [8, с. 464]. Некрофилия обнаруживается в снах, проявляется в незначительных действиях и общении: «Некрофил действует на группу, как холодный душ или «глушитель» всякой радости», как «ходячая доска», от присутствия такого человека все вокруг испытывают тяжкое ощущение и быстро устают» [8, с. 456]. Еще одно измерение некрофильской реакции, считает Э. Фромм, проявляется в отношении к собственности и оценках прошлого. Некрофил воспринимает реально только прошлое, но не настоящее и не будущее. «Короче говоря, вещи господствуют над человеком; «иметь» господствует над «быть», обладание – над бытием, мертвое – над живым» [8, с. 466]. С другой стороны, полагает Э. Фромм, «некрофильский характер может проявляться в убежденности, что единственный путь разрешения проблем и конфликтов – это насилие» [8, с. 464]. Поведение таких людей напоминает «реакцию королевы из известной книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», которая по любому поводу распоряжалась: «Отсечь им головы!». Такие люди не видят, насколько беспомощным и малоубедительным является насилие перед лицом времени. Противоположность некрофилии – биофилия – это «любовь к жизни и ко всему живому; это желание способствовать развитию, росту и расцвету любых форм жизни, будь то растение, животное или идея, социальная группа или отдельный человек» [8, с. 504]. Человек с установкой на биофилию «стремится творить, формировать, конструировать и проявлять себя в жизни своим примером, умом и любовью» [8, с. 504]. Любовь понимается Э. Фроммом не как биологическая связь, но как общение с другим субъектом, поэтому «психическое здоровье характеризуется способностью к любви и созиданию» [15, с. 93]. Любовь всегда двунаправленный процесс: с одной стороны, она обращена на самого любящего, с другой – на иного человека. Если изначально (в онтогенезе и филогенезе) этот иной – родственник, то позднее им может стать каждый человек. Любые биологические связи людей в их человеческом бытии превращаются в интерсубъективные, межличностные и социально-исторические отношения. Даже в любви к Богу реализуется это стремление к единству с другим человеком, преображающее другого и утверждающее его абсолютную ценность. Итак, любовь – это усилие во что бы то ни стало остаться живым, не поддаться омертвляющему воздействию неблагоприятных условий существования: ненависти, насилию, автоматизму мышления и поведения, сохранить в себе искру творческого начала. Согласно Фромму, «едва ли стоит говорить о том, что из двух возможных способов преодоления ограниченности собственного существования один – разрушительность – ведет к страданиям, другой – созидательность – к счастью» [15, с. 93]. И именно «любовь – ответ на вопрос бытия человечества» [16, с. 102]. Таким образом, различие между фроммовской концепцией и теорией Фрейда проходит не по сущностному критерию, не по критерию наличия или отсутствия тенденций к жизни и смерти, а по иному признаку: дело в том, что, с точки зрения Фрейда, обе тенденции, так сказать, «равнозначны», ибо обе даны человеку от природы. Однако нельзя не видеть, что у Э. Фромма биофилия представляет собой биологически нормальное явление, в то время как некрофилию он рассматривает как феномен психической патологии. Как следствие «задержки развития, душевной «инвалидности» [8, с. 505] и неспособности достигнуть некоторой ступеньки по ту сторону индифферентности и нарциссизма. Иными словами, Фромм, по сути, совершенно верно утверждает, что злокачественная агрессивность не только не инстинктивна, но и не является нормой поведения психически здорового человека: «Человек от природы наделен способностью к биофилии, таков его биологический статус» [8, с. 505] – это означает, что встречающаяся у людей и животных агрессия «есть не что иное, как приспособительная, защитная реакция» [8, с. 135]. Следует особо подчеркнуть, что Фромм, с одной стороны, утверждает существование противостояния некрофилии и биофилии, некрофильных и биофильных черт и тенденций в человеческом характере, выстраивая своего рода дихотомию, подобную фрейдовской дихотомии Эрос – Танатос. С другой стороны, он, в противоположность теории Фрейда об «инстинкте смерти», разделяет точку зрения многих биологов и психологов, что имманентное свойство любой живой субстанции – жить и сохраняться в жизни. Тенденция к сохранению жизни и борьбе против смерти, по его мнению, является элементарнейшей формой биофильного ориентирования и присуща любой живой материи. Объясняя противостояние биофильных и некрофильных тенденций в характере человека, Фромм говорит, что он имеет в виду не дуализм двух устойчивых и пребывающих в постоянной борьбе инстинктов. Это, по Фромму, дуализм двух противоположных тенденций. Одна из них – первичная и основополагающая тенденция всего живого, выражающаяся в стремлении удерживаться в жизни. Вторая – ее противоположность, которая появляется тогда, когда человек упускает или не может реализовать первую тенденцию. Иными словами, «инстинкт смерти» появляется, разрастается и берет верх, если не развивается «Эрос». Развивая мысль Фромма, уместно вспомнить, что он считал творчество прямой противоположностью некрофилии. Таким образом, творчество, по нашему мнению, можно соотнести с биофилией, с инстинктами жизни. Теперь понимание биофильных и некрофильных тенденций в человеческом характере как соответственно креативных и деструктивных объясняет утверждение Фромма о том, что «стремление к разрушению неизбежно возникает в тех случаях, когда не удовлетворяется стремление к созиданию» [15, с. 51]. Таким образом, по Фромму, человеческая деструктивность – это результат неблагоприятных социальных отношений и отклик на разрушение нормальных условий человеческого бытия, приобретенное человеком качество, основанное на разрушительных человеческих страстях, деформированных стремлениях и влечениях, когда человек не может реализовать свои экзистенциальные потребности. Иными словами, «когда творческое начало человека подавляется неблагоприятными условиями его существования, в нем начинает доминировать одна лишь тварность», т. е. стремление разрушать все вокруг себя, с которым «связаны пассивность и страдание» [17, с. 101]. Подобный взгляд на проблему соотношения «инстинктов жизни» и «инстинкта смерти», Эроса и Танатоса, креативности и деструктивности, признающий противопоставление этих противоположностей, отрицает понимание такого противопоставления как дуализма. На самом деле дуализм подразумевает противостояние двух начал, равных по силе. В данном же случае речь идет о главенстве биофильных тенденций над некрофильными, что означает первичность креативности и вторичность деструктивности. Более того, по нашему мнению, неверно смотреть на противоположность этих тенденций только как на противоположность жизни и смерти. Они должны пониматься более широко, как тенденции к созиданию и разрушению, причем только по отношению к деятельности человека, а не к его биологии, как это было у З. Фрейда, который обосновал существование влечений к жизни и смерти фактом существования биохимических процессов синтеза и распада. Конечно, необходимо признать, что правила мира, в котором живет человек, таковы, что, даже созидая, человек разрушает. Так, строя мир вокруг себя, преобразовывая его в соответствии со своими желаниями, человек разрушает его первозданность. Можно сказать, что даже первобытный человек, который жил «в согласии с природой», разрушал ее, разбивая камни для производства орудий труда – топора, наконечников стрел и пр. Подобно этому скульптор разрушает камень для создания своих произведений. Этот камень, в свою очередь, был добыт из разрушаемой людьми горы. Перечисление деструктивных действий людей в процессе созидания можно продолжать до бесконечности, но это не дает нам права говорить о том, что деструктивность – основа преобразований, основа креативности. Таким образом, можно сделать следующий вывод: креативность – это творчество, которое можно соотнести с биофилией, инстинктами жизни. Деструктивность – это некрофилия, отрицание творчества и самой жизни. При этом биофилия представляет собой биологически нормальное явление, в то время как некрофилия – это феномен психической патологии. Говоря об универсальной креативности природы и человека, мы, по сути, признаем, что человек «изначально является не только тварным, но и творческим существом, homo creans» [17, с. 99]. Желание созидать, творить основывается на диалогических отношениях, в них реализуются все креативные потенции личности. Диалог – это способ подлинно человеческого бытия, поскольку человек познает и преобразовывает мир в диалоге. Диалогический человек не может быть разрушителем, поскольку диалог свидетельствует о богатстве его связей с миром. Появление деструктивных тенденций у отдельных людей почти всегда обусловлено лишением их подлинно диалогического взаимодействия в семье, школе, вузе. Важно подчеркнуть, что диалог – это всегда развитие, взаимодействие, это всегда объединение, а не разрушение. Диалог – это показатель общей культуры общества, государства, человека. Без диалога личность и всякая общность представляют собой лишь абстракции. Уровень развития диалогических отношений конкретного человека с другими людьми и миром прямо пропорционален уровню его человечности. Чем больше развиты диалогические отношения, тем меньше предпосылок для возникновения деструктивных, антигуманных отношений. Творчество никогда не бывает нигилистическим, анархистским, бесцельным, антиобщественным, а является конструктивным, созидательным, направленным на благо человеческого рода, общества, отдельного человека и осуществляется в пространстве диалога. Пространство диалога – это пространство бытия человека, человеческого взаимодействия, гуманного поведения. Когда человек покидает это пространство, в его жизни затухают дружба и любовь, угасают чувства единства и солидарности, прерываются деловые и научные взаимодействия с другими людьми. Таким образом, вырождение диалога всегда порождает деструктивность, что противоречит сущности человека, перекрывает ему пути к другим людям и миру. Стоит диалогу возобновиться, и он может воскресить мертвые отношения, обнадежить отчаявшихся, раскрыть удивительную красоту жизни, возникающую в человеческих взаимоотношениях и ничем другим не заменимую, восстановить возможность и радость творчества.