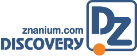Агиографическая традиция находит отражение в иножанровых моделях русской современной прозы, творчески использующих агиографические принципы (а в массовой литературе – паразитирующих на ее основе). Воссоздавая, например, в историческом жанре житийную картину мира, автор воплощает особую ментальность. Таким образом, художественное произведение – ментальная модель, основные свойства которой заложены в жанре. Иными словами, жанр – категория, аккумулирующая ментальные особенности. В этом плане в специфической природе художественного произведения заложены ментальные характеристики, а также возможности обогащения текста не только авторской историософией, концепцией культуры, но и ее традиций. Если каждый жанр наделен ментальными характеристиками, то при синтезе жанров в отдельном произведении возможен «конфликт» различных типов ментальности, особенно если один их жанровых кодов соотносится с конфессиональным контекстом. В этом плане агиографическая традиция в новейшей русской прозе функционирует в интертекстуальном поле жанров, противоположных по воплощенным в них типам национальных ментальностей. На авторском уровне проявляется центральная жанровая доминанта с ее ментальными свойствами. Явление диффузии жанровых контекстов обусловлено переломом в художественном сознании новой литературной эпохи. «Русская литература в последнюю четверть ХХ века коренным образом меняет свой менталитет. Одним из знаков этого процесса стал поворот к усвоению христианских ценностей, отказ от тех стереотипов в оценке христианства, которые сложились в советский период истории» [1, с. 128]. В условиях творческого синтеза агиографии и иножанровых контекстов, при которых отрицаются жанрообразующие доминанты агиографической модели и при этом нарушается соответствие между жанровыми инвариантами, а топика жития намеренно обыгрывается, порождаются новые жанровые модели на базе жанра, иноментального в отношении агиографии, в них «собственные признаки осложнены и оттеснены наплывом чуждых признаков, причем ни те, ни другие не могут проявить себя вполне последовательно» [2, с. 198]. Иножанровыми и, соответственно, иноментальными по своей природе контекстами для агиографии в популярной литературе выступают постмодернизм, детектив, фэнтези, «апокалиптическая» проза и др., «диалогизующим фоном» для них выступает агиография. В подтексте произведений, действие в которых связано с монастырским бытом, вполне возможно проявление агиографической традиции как глубинного пласта, проступающего сквозь сюжет, систему образов, мотивную схему и черты пространства. Подобное явление наблюдается в художественных произведениях, жанр которых можно условно идентифицировать как «клерикальный детектив». Это явление не относится к числу творческих завоеваний современных российских прозаиков. В новейшей русской прозе, как представляется, начинаются эксперименты с жанрами клерикальной литературы, основанные на смещении границ между детективом и агиографией. В настоящей статье рассмотрим такие литературные прецеденты, в которых наблюдается фоновое присутствие агиографии в иножанровом контексте. К числу таких жанровых структур относится, например, повесть Анны Ивановой «Святая Иоланда». В данном произведении агиографическая традиция присутствует в трансформированном по законам иножанровой структуры виде: агиографические мотивы проступают сквозь жесткую жанровую систему детективных мотивов и авторских стратегий. Идейно-художественное содержание повести организуется на пересечении детективных и агиографических кодов: сходные мотивы и образы, которые используются одновременно в двух контекстах, могут приобретать различные, даже полярные по значению, смыслы. Именно на таком основании в произведении происходит «удвоение» хронотопа: монастырь для главной героини, расследующей причины и обстоятельства загадочной смерти молодой монахини Иоланды, представляется топосом преступления, а для остальных (очень немногочисленной группы) персонажей и, думается, интеллектуального читателя монастырь видится топосом святости. Таким образом, агиография становится одной из возможных, обогащающих контекст произведения, точек зрения в детективной в своей основе повести. Агиографический фон для детективного сюжета – это глубинное выражение представления о гармонии, которая невозможна в мире, где правят деньги, нажива, сила, но которая существует как потенциальная возможность пребывания человека в мире. Для выражения этой мысли, видимо, автором и привлечен агиографический контекст, в котором обнажаются десемантизированные образы и символы, концептуально значимые для житийной литературы. Центральный из них – объективированный в образе главного персонажа – концепт «святой». В одном контексте его образ рисуется как объективированное проявление феномена святости в мире и божественной избранности, в другом – человек с перипетиями его частной жизни. Одним из важнейших в ряду жанровых концептов (и для агиографии, и для детектива) является смерть персонажа, идентифицирующегося каждым читателем данной повести по-разному: или как причисленного к лику святых, или как человека, погибшего от рук неизвестного убийцы. Развивающийся в повести сюжет раскрывает перед читателем этически несоответствующее отношение к смерти в объективированно выраженном в повествовании типе религиозного сознания. Выраженные в повести два варианта понимания смерти свидетельствуют об изменениях понимания сущности человека и его места в мире в теоцентрической системе Средневековья (репрезентативным жанром, рефлексирующим о смерти в эту культурную эпоху, является агиография), антропоцентрической модели Возрождения и в наше время, когда отношение к смерти сказалось в жанре детектива. Смерть Иоланды, при жизни отличавшейся смирением и кротостью, воспринимается как деяние ангелов, Иоланду метафорически называют белой лилией: «Белая лилия сорвана перстами ангелов» [3, с. 7]. Реакция на смерть Иоланды выявляет разное отношение к этому факту главной героини и монахинь, но первое впечатление героини от созерцания мощей обусловлено ортодоксальной точкой зрения. Собравшимся вокруг ее тела мощи видятся как средоточие душевных качеств личности, указывают на то, что ей при жизни предстояло пройти не обычные испытания и искушения, без которых не обходится ни одна человеческая судьба, а участвовать в высшей битве со злом. В повести, построенной на совмещении жанровых контекстов, художественная логика в представлении о смерти по-разному обосновывается в каждом из них и, таким образом, меняет свое значение. В концептосфере агиографии смерть вводит праведника в чин причисленных к лику святых, приближает к Богу, в некотором смысле, типизирует персонажа (в связи с чем описание смерти в житиях – канонически выверенная жанровая формула). Появившиеся на теле Иоланды стигматы позволяют окружившим ее мощи монахиням сравнить ее со святым Франциском и возвести ее образ к архетипическому образу Христа. В детективе – смерть человека носит исключительный характер, по законам жанра требует расследования, как правило, приводит к неожиданному прочтению сюжета (в данной повести убитая Иоланда – сестра главной героини) и, конечно, не воспринимается как желанная участниками расследования. Таким образом, в повести происходит переоценка антропоцентрической сущности житийной литературы. Первая сцена в повести строится автором практически по иконографическому образцу: композиционным центром гипотетического клейма на иконе, посвященной местно чтимой святой, становится эпизод присутствия вокруг мощей Иоланды группы монахинь. Однако канонические параметры иконографии в повествовании не выдержаны, и повествование не получает интермедиального «оптического» плана. Поэтому эмблематический дискурс агиографии в повести оказывается сознательно преодолен. В характеристике В. И. Тюпы эмблематическая дискурсивность, примером которой является средневековая житийная литература, оперирует знаками с фиксированным концептом. В произведении А. Ивановой такой тип дискурса не представляется актуализированным, он характерен только для агиографического плана идейно-художественного содержания. Например, в анализируемом фрагменте мощи Иоланды оцениваются только с религиозной точки зрения, которая оперирует укорененными в сознании смыслами, концептами. В общем объеме повествования в повести находит отражение иконическая дискурсивность, которая предполагает обращение к языку как к знаковой системе, не сводимой к готовым значениям и смыслам в их первичности и неизбежной при этом контекстуальности значений [4, с. 280]. Два идейно-художественных плана в данном художественном тексте принципиально отличаются тем, какой из двух потенциальных дискурсов – эмблематический или иконический – в них проступает. Агиографическому фону, так или иначе проявляющемуся в повести, присуща эмблематическая дискурсивность с оперированием христианской концептосферой, что отвечает модальности убеждения. Напротив, детективному плану свойственен иконический дискурс, что обусловлено выражением модальности мнения, гипотезы, версии и фигурой самовыражения коммуникативного субъекта (в нашем случае расследующей преступление героини). Специфическое непротиворечивое для авторского замысла единство иконического и эмблематического дискурсов – отличительная черта поэтики произведений массовой литературы, в которых обнаруживается фоновое присутствие агиографической традиции. В «двуедином» повествовании двоится смысл отдельных деталей, они приобретают в некоторых фрагментах одновременно и характер дополнительной подробности и при этом символическое значение. Так, уже начало повести может быть интерпретировано по-разному, в полярных ракурсах. В авторском повествовании, в котором наблюдается отход от соответствующих монастырскому хронотопу жанровых законов агиографии и ее стиля, но соответствующем характеру героини и фигуре повествователя, в нарративном потоке которого проявляется точка зрения главной героини, акцентируется звук колокола. Колокол как образ клерикальной культуры в агиографии наделяется символическим значением. Его символика обусловлена функцией музыки в христианском богослужении, его внешней формой и положением в пространстве: за колоколом закрепилось значение связи между небом и землей и ассоциация с небесами в качестве символа высшей созидательной силы [5, с. 177–178]. Такая значимость колокола и его звуков для средневекового сознания не учитывается героиней, что некоторым образом характеризует ее личность и представление о реальности. Звуки колокола воспринимаются ею только лишь в бытовом плане как смена периодов суток, она оценивает лишь его функциональность, бытийный аспект значения не важен для Марго, она поглощена реальностью, не способна на религиозное ее осмысление и свое пребывание в монастыре не осознает в бытийном аспекте как пребывание между небом и землей. Отметим, кроме прочего, что в средневековой религиозной культуре колокол связан с похоронным обрядом, поэтому с ним связывается представление о ходе времени и смертном часе, шире – колокол ассоциируется со смертью. Так, в агиографическом контексте повести колокол приобретает дополнительную семантику, не воспринимаемую героиней и повествователем, но важную, очевидно, для автора, учитывающего весь спектр значений этого символа, именно фактор авторских интенций обосновывает смену эпизодов – следующий эпизод сообщает о смерти Иоланды. Другие агиографические концепты в иножанровом контексте меняют свое символическое значение, становятся элементами уликовой парадигмы, т. е. претерпевают семантическую метаморфозу. Атрибутом святости и знаком богоизбранности человека в момент его смерти в агиографии считаются стигматы (их символика учитывалась выше), розы, осыпающие тело святого, как обозначение девственности, духовности, совершенства. В таком значении они и воспринимаются персонажами, принадлежащими к монастырскому локусу: «– Я всегда говорила, что она – святая! – нервно перебирая четки, елейно проворковала мать Селина, заведовавшая пансионом. – Белая лилия сорвана перстами ангелов! – поддакнула мать Юнис, на чьем попечении находилась кухня и кладовые с провизией, – жизнерадостная тридцатилетняя пышка, никогда не упускавшая случая «чего-нибудь перехватить до обеда». – Стигматы! Настоящие стигматы! Как у святого Франциска! И розы! Белые! О, если бы Господь удостоил меня такой же благоуханной кончины! Господи Иисусе и Пречистая Дева! – упала на колени сестра Винсента, помощница Селины, еще молодая и весьма симпатичная» [3, с. 6–7]. Розы, имитирующие благоухание святого, для персонажей с религиозным восприятием являются знаком католической церкви, мистического центра, рая, что создает символическую парадигму восприятия монастыря как рая [5, с. 362]. Иное представление складывается в сознании героини, для нее это – загадка, ответ на которую связан с поиском убийцы. Ее варианту прочтения символа свойственно противоречие с ортодоксальным кодом. Роза в ее восприятии актуализирует другой смысл: этот цветок – символ тайны, что высвечивает иной аспект парадигмы восприятии монастыря, связанный с таинственностью монастырского локуса. В авторском понимании символа розы, обогащенного в дальнейшем расследовании обстоятельств жизни и смерти Иоланды, символическое значение углубляется по принципу развернутой метафоры: роза для автора уже в экспозиции (как потом осознается) – метафора погубленной красоты и молодости, а также по своей амбивалентной образности сохраняет – но только в безнравственном плане – устойчивый смысл земной страсти: розами как символическим выражением страсти тело убитой украсил воспользовавшийся ею мужчина. Авторское обозначение символов, таким образом, строится на пересечении основных контекстов. Символизм произведения синтезирует идеациональное и чувственное [6, с. 310–417]. Элементы предметного быта – отдельные детали обстановки места действия, предметы церковного быта и религиозного культа, меняют художественную функцию в зависимости от того, в каком контексте декодируются героями и читателем. Уликовую парадигму составляют распятие, получающее эпитет «зловещее», крест, стигматы, розы. Выше было отмечено, что в нарративном потоке повествователя ощущается близость его точки зрения и точки зрения героини в фразеологическом, психологическом и других планах ее выражения, а авторская позиция не соотносится ни с одной из них, ни с их единством. В нарративной системе произведения, значит, присутствуют два принципиально отличных типа сознания. Сознание героини и повествователя обнаруживается в его словесном выражении, системе умозаключений, речевой манере. Повествователь нарушает принцип агиографического нарратива, а героиня (и автор) не позволяет жизни убитой Иоланды выстроится по житийным параметрам канонической биографии в представлении других героев (и читателей). В противовес объективировано данной точка зрения автора обосновывается на надсловесном, надъязыковом уровне, на основе которого осмысляется сюжет. Агиография – дополнительный фон в повести, он высвечивает отдельные элементы мировидения героини и характерные приметы времени. Немаловажный и, видимо, первостепенный в замысле автора фон – новеллы эпохи Возрождения и ренессансная литературная традиция с ее антиклерикальным характером. Все повествование стилизовано, в его поэтике проступают черты жанрово-стилевой традиции Боккаччо (накал страстей, экспрессивные реплики персонажей, характеристики монахинь и церковников), в созданной писательницей художественной картине мира ощущается исторический колорит. Героиня и повествователь – представители нового типа культуры, их мировидение не соответствует авторскому, обогащенному культурным опытом и знанием о последующих исторических эпохах. Совмещение планов агиографии и детектива позволило автору продемонстрировать смену культурных эпох, в границах художественной модели показать, как происходит разрушение агиографической, вообще религиозной концептосферы и системы ценностей, и, может быть, наметить параллели между освобождающейся от клерикальных оков Европы и российской культурой конца ХХ в. Жанрово-стилевое своеобразие литературного сочинения связано с использованными в нем принципами художественного метода. Повесть А. Ивановой, как показано в нашем анализе, – прецедент неоднородного единства двух оппозиционных жанровых контекстов в границах одного художественного произведения. Создание подобного текста обосновывает оригинальный авторский творческий метод, типологически сходный с символическим реализмом средневековой литературы, однако в художественной концептосфере и содержании данного произведения нетождественный его религиозной природе, поскольку действие в нем разворачивается во временных рамках эпохи Возрождения. Получается, что в художественной модели автором репрезентировано воплощение метода символического реализма в несоответствующем историческом периоде и инокультурной аксиосфере. Писательница в агиографическом контексте своего произведения одновременно использует художественные принципы символического реализма, а в детективном – показывает его мировоззренческую и эстетическую несостоятельность в воспринимающем его отстраненно «чужом», принадлежащим другой эпохе, сознании, демонстрируя его ограниченность и непродуктивность, разрушая его основательные принципы. Символический реализм и его эстетические и философские основы были охарактеризованы Вяч. Ивановым в теоретической работе «Две стихии в современном символизме», закладывающей основы символизма в русской поэзии начала ХХ в. Символизм в его понимании – продуктивный художественный метод, играющий значительную роль в становлении европейского искусства. Дифференцируя художественные методы и определяя в связи с этим эстетическую разницу между хронологически соприкасающимися культурными эпохами в истории искусства, Вяч. Иванов в обобщающей формуле объяснил принципиальную разницу в характере средневекового и ренессансного творчества и мировидения: «…Там [в средневековой культуре] – усилие постичь феномен как символ; здесь [в культуре Возрождения] – творчество обобщающих феномены символов» [7, с. 150]. В средневековом житийном сочинении (как и в другие эпохи развития клерикальной словесности) агиограф (с долей самоуничижения и приуменьшения собственного таланта и художественных возможностей литературы) делает попытку осмыслить феномен святости в свете ортодоксальной религиозной концепции христианства. Напротив, творчество в период Ренессанса, по Вяч. Иванову, осмысляет не собственно феномен, а его символ. Это точное определение художественных принципов и творческих задач, на наш взгляд, иллюстрирует, в некоторой степени, природу творческой деятельности и авторские повествовательные стратегии наиболее популярных литературных жанров в средневековье и наше время – жития и детектива, способных к диаметрально противоположной интерпретации общего событийного ряда. Если в неоагиографии как наиболее значительной форме клерикального литературного творчества остаются неизменными задачи, используя формулу Вяч. Иванова, постижения феномена как символа, то автор детектива стремится опровергнуть представление героев, свидетелей и, конечно, читателей о действительности и совершившемся событии (преступлении), и его главный герой, расследующий и реинтерпретирующий факты, можно сказать, обобщает «феномены символов», и детективный жанр в литературе, апеллируя к формуле Вяч. Иванова, есть «творчество обобщающих феномены символов». То, что для агиографа – религиозный по сути символ, определяющий «место каждой вещи, земной и небесной, в рассчитано-сложной архитектуре своего иерархического согласия» [7, с. 146], для детектива – важная улика, знак, интуитивно и рационально наполняющийся смыслом. Такими мировоззренческими и эстетическими установками объясняется, почему одни и те же образы и мотивы получают неоднозначную оценку в противопоставляемых автором жанровых фонах и типах сознания, эти концептуальные для агиографии образы и мотивы видятся с той точки зрения в измененном содержании, в ракурсе их метаморфозы. Расподобление смысла художественных знаков в контексте повести обусловлено противоречивым единством эмблематического и иконического дискурсов, что объясняется замыслом автора, идейно-художественным содержанием произведения и особенностью репродукции метода символического реализма. Если для эмблематической дискурсивной практики характерен акцент на символической составляющей реализма (в его средневековом варианте), то для иконического главным становится реалистичность изображенного и множественность прочтения символов. В этой связи основной конфликт в повести можно определить в двух ипостасях специфики его проявления: в одном плане как борьбу добра со злом, а если конкретизировать, то святого и его антагониста, а с другой стороны – как столкновение двух типов сознания. Факт эффективного соположения (точнее – наложения) жанровых фонов агиографии и детектива в анализируемой повести доказывает, что таким образом возможно моделировать инокультурную картину мира, обновлять поэтику жанров, а также наводит на размышления о том, что в современной русской культуре отдаленно проявляется некоторые законы культуры ренессансного типа, доказательством чего служит наблюдаемая смена литературных методологических парадигм – «усилие постичь феномен как символ» сменяется творчеством «обобщающих феномены символов». Эта принципиальная смена парадигм творчества наглядно отражается в природе основных для каждой из них жанров агиографической и детективной литературы. А. Ивановой удалось в формате художественного произведения на стилизованно поданном историческом материале зафиксировать это обновление словесного творчества, что делает ее повесть показательным прецедентом для современной русской литературы, свидетельствует о продуктивности метода символического реализма в парадигме новой русской словесности, учитывающей опыт Средневековья. Повесть «Святая Иоланда» заканчивается сценой пожара в монастыре, в котором происходило основное действие. Финальный эпизод в свете предполагаемого авторского замысла можно интерпретировать как конечную точку стирания границ между противоположными культурными кодами. Отчасти типологическое единство художественного метода символического реализма наблюдается в «неоагиографической» прозе Д. М. Балашова, «агиороманах» С. Василенко, Л. Улицкой с учетом некоторых индивидуально-авторских особенностей, поскольку реализм в естественном для его природы синтезе с символизмом, как это доказано Вяч. Ивановым, «многообразен и разнолик, в зависимости от того, в какой мере напряжена и действенна» сила художника, и этим обстоятельством обусловлена специфика художественной объективации символического плана, значения и интерпретации агиографических символов и знаков, особенности их функционирования и эстетического эффекта, порожденного их «ознаменованием» в созданной картине мира, и авторских интенций, ими выраженных, в каждом конкретном произведении названных писателей, творчески использующих и самостоятельно разрабатывающих в своем творчестве принципы средневекового метода реалистического символизма. Двуплановость бытия отражается в художественных мирах других жанров, в поэтике которых проявляется фоновая функция житийной традиции. Агиографический мотивно-образный комплекс находит своеобразное воплощение в таких художественных произведениях, повествование в которых прерывается сосуществованием параллельных сюжетов, один из которых выражает зримое для рассказчика, персонажей и читателя присутствие святых в современной повседневной действительности. В противовес тенденции созидания житийной традиции в литературе нового века обнаруживается стремление к ее репрезентации в иноментальном контексте других жанров. В новейшей русской прозе традиция агиографии проявляется в иножанровых художественных контекстах и представляет собой сложное поле интертекстуальной игры с константами агиографической картины мира, их интерпретации и трансформации жанровой топики, являющимися заимствованными концептами из значимой культурно-исторической парадигмы, код которой распознается читателем. В художественных контекстах сополагаются иноментальные по характеру жанровые парадигмы, образующие конфликт, проявляющийся в сюжете, системе персонажей, семантике образности. Контекстами становятся жанры детектива, фэнтези, «апокалиптический роман», «клерикальная проза», а также более широкий контекст – постмодернизм. Соположение жанровых планов отражается в смещении дискурсов. К постижению поэтики таких произведений подключается активное читательское сознание. Фокусирующим трансформацию традиции и оценивающим ее идейно-художественное содержание является эстетическое сознание автора конца ХХ столетия и точка зрения реципиента.